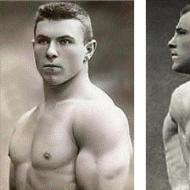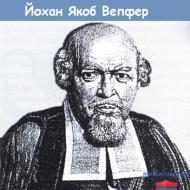
Национал большевики и коммунисты. Большевизм, фашизм, национал-социализм – родственные феномены
Падение тоталитарной идеологии, сопровождавшее крушение СССР, обнаружило запутанный и противоречивый клубок понятий, претендующих на выражение русской национальной идеи, получивший меткое обозначение "национал-большевизма"... .Основная мысль национал-большевизма формулируется довольно просто. Революция объявляется закономерным явлением русской истории, а большевики — продолжателями державного творчества России, выразителями русской исконной государственной идеи. Поначалу ленинскую РСФСР, а после 1927 года Советский Союз, национал-большевики объявляют новыми формами существования русского национального дома; их русским патриотам должно защищать и поддерживать, поскольку эти государственные образования выражают и защищают интересы русского народа, обеспечивают его существование и процветание.
В различные периоды советской эпохи вышеуказанная стержневая идея иногда видоизменялась и обрастала разнообразными добавлениями, но анализ любой национал-большевицкой концепции обнаруживает присутствие этой основной идеологической схемы.
Отождествление Исторической России с РСФСР/СССР не является исключительным атрибутом национал-большевизма. В этой категорически ложной оценке национал-большевики сходятся в трогательном единении с западными и российскими русофобами (которым необходимо очернить Царскую Россию, и вообще всякое проявление русского национального самосознания, отождествляя русскую державность с СССР и проецируя на нее советские преступления и мерзости), а также с некоторыми нынешними искренними, но наивными патриотами России (на Западе их теперь называют русскими "либерал-националистами"), для которых как Имперская Россия, так и Советский Союз тождественны и потому одинаково неприемлемы — суть выражение единой ущербной державной этики и должны компенсироваться то ли самоупразднением русской государственности через одностороннее "самоограничение" (по сути, историческую капитуляцию) русских, то ли через строительство новой общественной утопии в России, на этот раз "национально-либеральной".
Первые сигналы национал-большевизма заметны уже в 1920 году, в воззвании генерала Брусилова к офицерам и командованию Белых Армий. Знаменитый и талантливый стратег, в то время уже служивший коммунистам, призывал своих бывших коллег и однокашников прекратить сопротивление Коминтерну и встать на защиту РСФСР от поляков, в тот момент решивших военным путем вернуть Польше утраченное при Богдане Хмельницком и царе Алексее Михайловиче обладание колыбелью русской государственности — Малороссией. Призыв генерала Брусилова, возможно не составленный, а только подписанный им лично, был выпущен с одобрения советской власти, сознательно использовавшей призывы к патриотизму в тех случаях, когда это ей было необходимо или выгодно.
Если национал-большевизм брусиловского воззвания был эмбриональным и конъюнктурным, то год спустя, в 1921 году, уже в эмигрантской среде, появилась более развитая мировоззренческая схема, вылившаяся в движение так называемых "сменовеховцев", среди которых выделялся некий Н. В. Устрялов. В этом движении национал-большевизм уже оснащен тем же аппаратом аргументов, что и сегодня, с одной существенной разницей: коммунизм и советчина на русской земле у сменовеховцев представлены как исторически завершенные явления — вероятность крушения советского строя игнорируется полностью, хотя в те годы зыбкость советской власти была очевидна.
Нынешние национал-большевики, после 1991 года, не могут оперировать аргументами неколебимости советской системы: им приходится их замещать теориями о подрыве СССР: то ли через измену внутри КПСС, то ли по проискам внешних противников, в особенности Америки. Они не могут признать, что советский режим был изначально внутренне обречен, они также игнорируют, что Запад на самом деле не был заинтересован в крушении советской системы в самом СССР, а только проводил политику сдерживания коммунистической экспансии в собственную сферу влияния.
Для врагов России и ее соперников коммунизм оказался историческим подарком, орудием геополитического и экономического развала их противника — вспомним кто, когда и зачем заслал Ленина и его команду в Российскую Империю.
Национал-большевики также не желают признать, что КПСС — стержень Советского Союза, встроенный даже в его основной закон (параграф 6 Конституции СССР в последней редакции) и следовательно, вина в преступлениях советской власти против русских полностью разделяется компартией СССР и ее идейными потомками, вроде теперешней КПРФ, сознательно только сменившей "СС" в прежнем обозначении на "РФ".
Сменовеховцев, несомненно, курировали советские органы разведки и идеологической диверсии. У них были деньги, периодика, возможности просоветской агитации. Однако в белой эмиграции они значительного успеха не имели, хотя и раздували свое значение всемерно. Единичное возвращение в СССР таких знаменитостей как Куприн или Вертинский произошло больше по личным мотивам (конец жизненного пути, желание умереть не на чужбине), а потому эти эпизоды невозможно представлять, как массовое осознание "правоты" сотворенного над Россией преступления. "Смена вех" оказалась уделом нескольких десятков активистов и немногих тысяч из среды миллионов Русского Рассеяния.
С течением времени сменовеховство переросло из гибридного русско-советского патриотизма в чисто советский патриотизм, более не затруднявшийся попытками оправдать коммунистический эксперимент над завоеванной "Октябрем" Россией как "продолжение органичного российского развития". Облик СССР в идеологии сменовеховцев вытеснил облик России, и с национал-большевицких позиций они все больше продвигались в сторону чистого пробольшевизма.
Но национал-большевицкая схема не была заброшена. Она возродилась в известном варианте в СССР, когда был завершен акт "политического мародерства"… Офицерам Красной Армии вернули почти все дореволюционные звания и погоны, одновременно оставляя красные звезды на фуражках, и конечно красные флаги компартии. Война с Германией заставила власть возродить, частично и уродливо, русское национальное самосознание, чтобы с его помощью бороться с врагом. С тех пор изуродованный коммунистической идеологией вариант русского национального сознания существовал в качестве постоянно помыкаемого идейного приживальщика в советской храмине. Однако это ущербное прозябание имело на какой-то короткий срок и продолжительное последствие: в тяжких условиях постоянных окриков из ЦК КПСС немногие герои духа все же смогли использовать формальную терпимость советам хотя бы и ограниченной русскости и предпринять восстановление основ национального сознания России. Примером такого духовного подвига является ныне покойный В. А. Солоухин.
Когда же механизм КПСС остановился, пришлось "перестраиваться", то советские державники, как и в 1941 году, взяли на вооружение русские национальные ценности, теперь уже в качестве основного своего инструмента. Национал-большевизм усилился и превратился в центральную доктрину тех остатков коммунистической номенклатуры, которым по разным причинам не нашлось места за "демократическим банкетом" в Российской Федерации.
Но как и прежде, национальное у национал-большевиков не искренне, а притворное — выборочно цитируя И. А. Ильина, они полностью выговорить его идеи не могут, так же как не могут освоить полноты нашего исторического наследия. Приветствуя, например, кадет русского белого зарубежья, национал-большевики не думают хотя бы из вежливости отказаться от коммунистических красных флагов и звезд, а портреты поляка Дзержинского — сознательно считавшего убийство наибольшего числа русских людей своей миссией — так и висят в кабинетах его служебных наследников, в семьях которых, замечу мимоходом, очень вероятно, тоже числятся жертвы "Железного Феликса".
С самого своего зарождения национал-большевизм сталкивается с острым противоречием. Вся идеология коммунизма — западническая, и документированно русофобская — от Маркса до самого Ленина. Финансирование и распространение революционного движения делалось открытыми и безоговорочными врагами России и русского народа, и все революционные вспышки нашего века, включая и "триумф" 1917 года выводят на враждебных Исторической России инспираторов и исполнителей, в подавляющем большинстве иностранцев. Таким образом, сам замысел, что революционное движение и его кульминация в 1917 году суть национальная идея и продолжение русского государственного творчества — бред, диаметрально противоположный историческим фактам.
Поэтому национал-большевики предпочитают трактовать РСФСР/СССР как данность своей исторической программы, а Ленина — как "великого человека", не углубляясь даже слегка в детали этих двух своих кумиров. Если же национал-большевика заставить полемизировать на тему революции и революционеров, то в хаосе повторяемой в качестве заклинаний советской агитки проступит давно затасканная ложь и клевета по адресу Государя и Государыни, дворян и офицеров, Церкви, "буржуазии" и т. п. Неприкосновенными остаются мифический "пролетариат" (батраки, чернорабочие, "социально близкие") и партия коммунистов со своими нерусскими вождями. То есть, коммунистическая революция для национал-большевика категорически священна, и любая его попытка доказать, что 1917 год является не захватом и ломкой, а "продолжением державного строительства Исторической России", сразу раскрывает сущность национал-большевизма — как антирусской идеологии, пытающейся выжить, притворяясь патриотической.
То же происходит с фактологией общественных преступлений советской власти: Гражданской войны, гонения на русское православие, концлагерей, истребления русской национальной аристократии и интеллигенции, уничтожения русского крестьянства, превращение русского рабочего в государственного раба, истребления казаков, гонения на все исторические сословия России, ломки и коверканья русской культуры — все эти прекрасно известные, вещественно доказанные действия (купальный бассейн на месте храма Христа Спасителя, к примеру) вызовут в лучшем случае: "произошли ошибки" — сквозь стиснутые зубы — с последующим кликушеским кукареканьем по поводу советских "достижений" — индустриализации, космоса, атомного оружия и т.п. Как будто Царская Россия была страной каменного топора, и без коммунистической революции никогда бы не достигла того сомнительного по качеству прогресса, который приписывают себе большевики.
Особенно нагло и кощунственно звучит приравнивание красных к белым (то есть Троцкого и Сталина к Деникину и Колчаку) — дескать красные "тоже воевали за Россию". Где и когда в лозунгах Красной Армии кроме марксизма и классовой ненависти звучали еще и русские патриотические темы, национал-большевики конечно указать не могут. Также как и обсудить национальный состав органов ВЧК, "вклад" латышских стрелков в создание РСФСР, контрактные карательные отряды из китайцев в "рабоче-крестьянской" (не народной, а классовой) армии коммунистов.
"Примирение" красных с белыми, якобы во имя гибнущей России, тоже из набора демагогии национал-большевизма. Нигде в этой лицемерной затее не говорится о раскаянии красных, о том что очевидная возможность гибели России есть следствие именно коммунистического ига. В "примирении" коммунисты не предлагают смиренно трудиться над исправлением причиненного ими зла отечеству, под идейным руководством, например, РОВСа, или Имперского Союза-Ордена; а напротив — "примирение" предполагает, что белые должны включиться в борьбу за Россию (советскую) под общим руководством коммунистов. Так что под видом "примирения" предлагается идейная капитуляция белых (победителей в историческом испытании) перед красными (исторический экзамен провалившими).
Так же лицемерно окрашено в красный цвет требование "не вычеркивать" коммунизм из истории России, причем под "невычеркиванием" подразумевается не вечная память жертвам коммунизма, или необходимость лечить на века изуродованное тело России, а оправдание и восхваление коммунистов и их "достижений" (неужто лагерной системы на Колыме?, а может быть Соловецкого Лагеря Особого Назначения?). О, если можно было бы действительно "вычеркнуть" советчину из истории русского народа, сделать ее "небывшей"! Но не о таком вычеркивании пекутся коммунисты в облике "патриотов". Под "невычеркиванием" они подразумевают хвалу, одобрение, моральное подчинение изначальным ценностям советского коммунизма.
В наборе агитпропа национал-большевиков особое место занимает тема "победа над фашизмом" и "защиты России" во время Второй Мировой войны. Для национал-большевиков желательно свести весь советский период — от Ленина до Черненко (Горбачев не в счет, его уже не считают "советским") — к четырем годам, от июня 1941 до июня 1945. Война с гитлеровской Германией коснулась всех жителей СССР; советский агитпроп прочно оборудовал ее события набором мифов, в котором самым видным является "ключевая роль коммунистов и ВКП(б)" в победе над беспощадным и грозным противником (на самом деле, например, будущий надсмотрщик ЦК КПСС по идеологии М. Суслов удрал из Севастополя при приближении Вермахта).
Конечно, как во всякой мифологии, вымыслы не выдерживают анализа своих настоящих истоков: если бы революция в России не победила, то наверное не было бы вообще Гитлера и гитлеризма, а без гитлеризма не произошла бы и война. Захват коммунистами России спровоцировал появление гитлеризма, дал Гитлеру идеологический заряд; таким образом, советская власть своим собственным существованием вызвала тот дух кровавой бойни, от которого русский народ не оправился до сих пор.
Будучи демагогическим по существу, национал-большевизм боится и избегает логического анализа своих позиций, предпочитая действовать разными вариантами крика площадных эмоций. Так поступал еще первый государственный преступник, вождь коммунистов Ленин.
Особенную проблему для национал-большевизма представляет наличие русской Белой эмиграции, физических и духовных потомков Белых воинов, рассеянных по всему миру, сохранивших в течение нескольких поколений веру и верность России. Они являются живым примером чистого русского патриотизма, не зависящего от советчины, не поющего дифирамбов "вождям", считающего революцию 1917 года величайшей трагедией и злом, а не "продолжением" державного развития России.
Русское Белое зарубежье имеет множество единомышленников в отечестве, его престиж — как наследника Белого Движения — высок и растет далее, и по мере своего прозрения русские патриоты со здоровым гражданским и национальным сознанием получают возможность использовать на благо национального возрождения все то, что с такой любовью и таким усердием собирали и берегли для России ее дети, рассеянные по всему миру.
По сущности своей притворной ориентации национал-большевики вступают в контакт с белыми — как в самой России, так и вне ее. За границей, по целому ряду причин, национал-большевикам легче маскировать свое истинное лицо; часто они это делают, используя показную православную набожность, и елейно рассуждают о духовности (от которой им по сути также далеко, как и до солнца). Делают они это для того, чтобы втереться в доверие белым, по возможности перехватывая в свои руки связь зарубежных русских патриотов с Россией. Заодно национал-большевикам желательно показать, что русское Белое зарубежье как бы санкционирует советский патриотизм: ведь приезжающие в Россию белые, именно как белые, оказываются в залах, где нагло висят красные флаги — знамена концлагерей и расстрельных подвалов ВЧК — получается, что советчина приемлема даже для потомков Белой гвардии, а уж для бывших советских граждан она должна быть тем паче милой, нужной и обязательной...
А острые протесты белых посетителей по этому вопросу национал-большевики вежливо, но неизменно игнорируют.
Вместе с этим ведется тихая, но систематическая дискредитация белых и русской Белой эмиграции внутри самой России. Используются разнообразные способы, например культивирование классовой ненависти к "чужакам", "буржуям", "изменникам родины". Недавно в национал-большевицкой прессе широко распространялись статьи со списками имен из парижского масонского архива 1940-х годов, в которых перечислено несколько тысяч масонов в русскоязычном обществе Франции. В этом перечне малоизвестных и непроверенных фамилий, на добрую треть даже не русских, заметен один-другой десяток более громких имен — это на миллионы русских эмигрантов во всем мире. Пытаются создать впечатление у неискушенного читателя в России, что белая русская эмиграция насыщена вольными каменщиками и, следовательно, ей верить и идейно сочувствовать нельзя. Национал-большевики и пропагандисты не знают, или умалчивают, что их излюбленное большевицкое "товарищ" пришло к социалистам и революционерам как раз из масонских лож, где этим словом обозначают вторую, основную, из трех степеней посвящения: ученик, товарищ, мастер.
Следует задуматься над психологией людей, пропагандирующих национал-большевизм. Один из типов этой категории — профессиональный агитатор, наглый лгун, выполняющий заказ. По разным причинам ему не удалось пристегнуться к "демократическому" поезду, а советизм в чистом виде уже давно не респектабелен. Вот он и служит бредовой по сути идее, сочетающей такие противоположности, как "царь" и "советы". Другой тип — искренне верит в нелепицу национал-большевизма, тем самым оправдывая насилие, совершенное над своим собственным народом, может даже над собственными близкими родственниками. Так как коммунизм и любая форма национального сознания по логике радикально несовместимы, то те, кто пытается это сделать, мыслят вопреки реальности — а это клиническое определение сумасшествия. Сознательные национал-большевики — или лгуны, или умалишенные, и это не аргумент в споре, а психологический диагноз.
Необходимо указать и на особенный нравственный смысл национал-большевизма и всякого оправдания советчины вообще. Оправдание преступной и антинародной системы тем самым является моральным соучастием в коммунистических и советских преступлениях. Оправдывающие СССР национал-большевики становятся моральными соучастниками и убийства Царственных Мучеников, и преступления Павлика Морозова, и разрушения храмов, и гонений на верующих, и раскулачивания, и Гулага, и прочих несметных мерзостей социалистической тирании.
Реальной политической перспективы у национал-большевизма не имеется. Тем, кто надеется как-то под крылом этого мировоззрения "использовать" коммунистов, следует помнить, как Ленин и К° расправились в свое время со своими союзниками эсерами — а между партией эсеров и партией коммунистов было очень много идейной совместимости… Ошибаются и те, кто надеется использовать национал-большевизм как промежуточное идейное состояние от советизма к истинному русскому патриотизму. Настоящие русские патриоты, светлая надежда России, не нуждаются в таком идейном "мостике", а те, кто до сих пор погряз в советчине, не представляют настоящей ценности для отечества: идейно они — люмпен-пролетарии, с которыми все равно создать ничего путного невозможно. Так зачем эти "совки" для России? Пусть и месят свой советский навоз. Все кто умен, кто честен и кто смел — уже сделали свой выбор. Как государственная идея национал-большевизм уже мертв.
Однако до поры до времени еще надо помнить, с чем мы имеем дело. Национал-большевики все еще шипят, кликушествуют, пытаются поправлять СССР, клевещут исподтишка на Белую гвардию, рядятся в ризы патриотов и поборников Исторической России. Перефразируя один гнусный лозунг, они — "дети Чапаева, которые хотят сойти за внуков Суворова", чтобы и в грядущей России по-советски задавать тон, чавкать у редакционных кормушек, безбедно существовать, вещать о "русскости" колхозов и стахановщины. Но грядущая Россия — не СССР и не жалкая Российская Федерация. В истинно патриотическом русском будущем для национал-большевиков места нет, так же как и для "западников", по самой природе вещей. А нам сегодня просто нет нужды пачкаться взаимодействием с вымирающими рептилиями советского агитпропа и с безнадежно умалишенными последователями "советской" (то есть нерусской ) России.
Владимир Беляев
Некоторые элементы национал-большевизма можно обнаружить и в советской литературе 1970-х годов (Сергей Семанов , Николай Яковлев).
В 1990-е лидирующими практиками и теоретиками национал-большевизма стали Эдуард Лимонов и Александр Дугин . Лимонов возглавил Национал-большевистскую партию . Национал-большевики участвовали в демонстрациях против проведения саммита Большой восьмёрки в Санкт-Петербурге .
Геополитика оказала тяжёлое влияние на существующие русские национал-большевистские движения, они предлагают объединение России с остальной Европой в Евразию.
Позже возникла оппозиция усилиям Лимонова к привлечению союзников вне зависимости от их политических убеждений; некоторые даже покинули НБП и сформировали Национал-большевистский фронт (НБФ).
Существуют национал-большевистские группировки в Израиле и в частях бывшего СССР, которые связаны с НБПР. Другие группы, такие как франко-бельгийская "Общая национал-европейская партия", которые также показывают национал-большевистское желание создания единой Европы (также как и её многие экономические идеи), и французская политическая фигура Кристиана Буше также получили влияние данной идеи.
Идеология
Национал-большевизм резко антикапиталистичен. Национал-большевики идеализируют время сталинизма . Экономически национал-большевики поддерживают смесь Новой экономической политики Владимира Ленина и фашистского корпоративизма .
Идеология прямо ссылается на Георга Гегеля и представляет его как отца идеализма . Идеология крайне традиционалистична в манере Юлиуса Эволы . Среди других заявленных предшественников движения находятся Жорж Сорель , Отто Штрассер и Хосе Ортега-и-Гассет (в частности влияние последнего широко из-за неприятия им левых и правых предрассудков, что также является особенностью национал-большевизма).
По отношению к религии: национал-большевики как правило не религиозны, но и не враждебны к религии.
Национал-большевизм в Германии
Движение зародилось вследствие Первой мировой войны , в разрушенной Германии, раздираемой конфликтами между марксистскими спартакистами и партизанскими националистами . Синтез двух новых идеологий - большевизма , проявленного в Октябрьской революции , и нового национализма, модернизированного Великой войной, отныне опирающегося на массы и вкус к технике - сформируется в Германии исходя из двух основных элементов:
- сближение интересов Германии и Советской России,
- несколько совпадающих идентификационных признаков в идеологии, методах или стилях, между большевизмом и национализмом.
Коммунистическое происхождение
В буквальном значении, национал-большевистское движение составляет течение крайнего меньшинства, ограничивающегося малым числом мыслителей и политических групп. Некоторые возводят их рождение, в апреле 1919 года , к мысли Паула Эльцбахера , профессора права в Берлине, известного своими трудами по анархизму , и депутата-националиста в Рейхстаге в 1919 году. Он предлагает союз Германии и Советской России против Версальского договора . Это предложение отвечает требованиям теории Хартленда , по которой контролирующий Россию и Германию будет контролировать весь мир.
В 1919 году национал-большевистское движение развивается в Гамбурге вокруг двух лидеров коммунистической революции этого города: Хайнриха Лауфенберга ( -1932 годы , Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов Гамбурга в ноябре 1918 года) и Фридриха или Фрица Вольффхайма ( -1942 годы , бывший синдикалист в США, затем в Гамбурге. Еврей, погибший в концентрационном лагере). Они руководят национал-большевистской тенденцией в Германии и внутри Коминтерна . Будучи изгнанными в октябре 1919 года из официальной компартии (КПГ), они входят в Коммунистическую рабочую партию (КПРГ), которая остаётся в Интернационале до 1922 года . В свою очередь, КПРГ выгоняет из своих рядов национал-большевиков. С тех пор, национал-большевизм стал движением индивидуальностей и малых групп.
Среди национал-большевистских групп фигурирует группа Фридриха Ленца и Ханса Эбелинга вокруг обозревателя «Der Vorkampfer» (с нем. - «передовой боец, боец авангарда», около -1933 годов), который пытается реализовать идеологический сплав идей Карла Маркса и немецкого экономиста Фридриха Листа . Следуя некоторым современным национал-большевикам, вне обозревателя был создан т. н. «Круг исследований планового хозяйства» (или «Арплан»), имевший как секретаря актёра Сопротивления и антинациста Арвида Харнака .
После прихода к власти нацистов в 1933 году , большинство национал-большевиков высказываются за Сопротивление против нацизма , тем временем как некоторые национал-большевистские группы сотрудничают с режимом, такие как Союз прозрения (нем. Fichte Bund ) (созданный в Гамбурге и подвластный КПРГ), руководимый профессором Кессенмайером (совместно с бельгийцем Жаном Тириаром , тогда ещё молодым рексистом).
Эрнст Никиш и обозреватель «Widerstand»
Самая знаменитая личность национал-большевизма во время Веймарской республики - Эрнст Никиш ( -). Этот социал-демократический преподаватель (с -) был выгнан из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в 1926 году из-за своего национализма. Позднее он перешёл в маленькую Социалистическую партию Саксонии (СПС), которую обратил в свои идеи. Он оживил обозреватель «Widerstand» (с нем. - «Сопротивление»), который оказал большое влияние на молодёжь до 1933 года . Движение Никиша объединяло людей пришедших как слева, так и из правого национализма. После 1933 года он вошёл в оппозицию нацизму , был заключён в концентрационный лагерь ( -). После 1945 года , он был преподавателем в ГДР . В 1953 год сбежал на Запад.
См. также
Напишите отзыв о статье "Национал-большевизм"
Примечания
Литература
- Агурский М. М.: Алгоритм, 2003.
- David Branderberger. National Bolshevism. Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931-1956.
Ссылки
Отрывок, характеризующий Национал-большевизм
Княжна, никогда не любившая Пьера и питавшая к нему особенно враждебное чувство с тех пор, как после смерти старого графа она чувствовала себя обязанной Пьеру, к досаде и удивлению своему, после короткого пребывания в Орле, куда она приехала с намерением доказать Пьеру, что, несмотря на его неблагодарность, она считает своим долгом ходить за ним, княжна скоро почувствовала, что она его любит. Пьер ничем не заискивал расположения княжны. Он только с любопытством рассматривал ее. Прежде княжна чувствовала, что в его взгляде на нее были равнодушие и насмешка, и она, как и перед другими людьми, сжималась перед ним и выставляла только свою боевую сторону жизни; теперь, напротив, она чувствовала, что он как будто докапывался до самых задушевных сторон ее жизни; и она сначала с недоверием, а потом с благодарностью выказывала ему затаенные добрые стороны своего характера.Самый хитрый человек не мог бы искуснее вкрасться в доверие княжны, вызывая ее воспоминания лучшего времени молодости и выказывая к ним сочувствие. А между тем вся хитрость Пьера состояла только в том, что он искал своего удовольствия, вызывая в озлобленной, cyхой и по своему гордой княжне человеческие чувства.
– Да, он очень, очень добрый человек, когда находится под влиянием не дурных людей, а таких людей, как я, – говорила себе княжна.
Перемена, происшедшая в Пьере, была замечена по своему и его слугами – Терентием и Васькой. Они находили, что он много попростел. Терентий часто, раздев барина, с сапогами и платьем в руке, пожелав покойной ночи, медлил уходить, ожидая, не вступит ли барин в разговор. И большею частью Пьер останавливал Терентия, замечая, что ему хочется поговорить.
– Ну, так скажи мне… да как же вы доставали себе еду? – спрашивал он. И Терентий начинал рассказ о московском разорении, о покойном графе и долго стоял с платьем, рассказывая, а иногда слушая рассказы Пьера, и, с приятным сознанием близости к себе барина и дружелюбия к нему, уходил в переднюю.
Доктор, лечивший Пьера и навещавший его каждый день, несмотря на то, что, по обязанности докторов, считал своим долгом иметь вид человека, каждая минута которого драгоценна для страждущего человечества, засиживался часами у Пьера, рассказывая свои любимые истории и наблюдения над нравами больных вообще и в особенности дам.
– Да, вот с таким человеком поговорить приятно, не то, что у нас, в провинции, – говорил он.
В Орле жило несколько пленных французских офицеров, и доктор привел одного из них, молодого итальянского офицера.
Офицер этот стал ходить к Пьеру, и княжна смеялась над теми нежными чувствами, которые выражал итальянец к Пьеру.
Итальянец, видимо, был счастлив только тогда, когда он мог приходить к Пьеру и разговаривать и рассказывать ему про свое прошедшее, про свою домашнюю жизнь, про свою любовь и изливать ему свое негодование на французов, и в особенности на Наполеона.
– Ежели все русские хотя немного похожи на вас, – говорил он Пьеру, – c"est un sacrilege que de faire la guerre a un peuple comme le votre. [Это кощунство – воевать с таким народом, как вы.] Вы, пострадавшие столько от французов, вы даже злобы не имеете против них.
И страстную любовь итальянца Пьер теперь заслужил только тем, что он вызывал в нем лучшие стороны его души и любовался ими.
Последнее время пребывания Пьера в Орле к нему приехал его старый знакомый масон – граф Вилларский, – тот самый, который вводил его в ложу в 1807 году. Вилларский был женат на богатой русской, имевшей большие имения в Орловской губернии, и занимал в городе временное место по продовольственной части.
Узнав, что Безухов в Орле, Вилларский, хотя и никогда не был коротко знаком с ним, приехал к нему с теми заявлениями дружбы и близости, которые выражают обыкновенно друг другу люди, встречаясь в пустыне. Вилларский скучал в Орле и был счастлив, встретив человека одного с собой круга и с одинаковыми, как он полагал, интересами.
Но, к удивлению своему, Вилларский заметил скоро, что Пьер очень отстал от настоящей жизни и впал, как он сам с собою определял Пьера, в апатию и эгоизм.
– Vous vous encroutez, mon cher, [Вы запускаетесь, мой милый.] – говорил он ему. Несмотря на то, Вилларскому было теперь приятнее с Пьером, чем прежде, и он каждый день бывал у него. Пьеру же, глядя на Вилларского и слушая его теперь, странно и невероятно было думать, что он сам очень недавно был такой же.
Вилларский был женат, семейный человек, занятый и делами имения жены, и службой, и семьей. Он считал, что все эти занятия суть помеха в жизни и что все они презренны, потому что имеют целью личное благо его и семьи. Военные, административные, политические, масонские соображения постоянно поглощали его внимание. И Пьер, не стараясь изменить его взгляд, не осуждая его, с своей теперь постоянно тихой, радостной насмешкой, любовался на это странное, столь знакомое ему явление.
В отношениях своих с Вилларским, с княжною, с доктором, со всеми людьми, с которыми он встречался теперь, в Пьере была новая черта, заслуживавшая ему расположение всех людей: это признание возможности каждого человека думать, чувствовать и смотреть на вещи по своему; признание невозможности словами разубедить человека. Эта законная особенность каждого человека, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составляла основу участия и интереса, которые он принимал в людях. Различие, иногда совершенное противоречие взглядов людей с своею жизнью и между собою, радовало Пьера и вызывало в нем насмешливую и кроткую улыбку.
В практических делах Пьер неожиданно теперь почувствовал, что у него был центр тяжести, которого не было прежде. Прежде каждый денежный вопрос, в особенности просьбы о деньгах, которым он, как очень богатый человек, подвергался очень часто, приводили его в безвыходные волнения и недоуменья. «Дать или не дать?» – спрашивал он себя. «У меня есть, а ему нужно. Но другому еще нужнее. Кому нужнее? А может быть, оба обманщики?» И из всех этих предположений он прежде не находил никакого выхода и давал всем, пока было что давать. Точно в таком же недоуменье он находился прежде при каждом вопросе, касающемся его состояния, когда один говорил, что надо поступить так, а другой – иначе.
Теперь, к удивлению своему, он нашел, что во всех этих вопросах не было более сомнений и недоумений. В нем теперь явился судья, по каким то неизвестным ему самому законам решавший, что было нужно и чего не нужно делать.
Он был так же, как прежде, равнодушен к денежным делам; но теперь он несомненно знал, что должно сделать и чего не должно. Первым приложением этого нового судьи была для него просьба пленного французского полковника, пришедшего к нему, много рассказывавшего о своих подвигах и под конец заявившего почти требование о том, чтобы Пьер дал ему четыре тысячи франков для отсылки жене и детям. Пьер без малейшего труда и напряжения отказал ему, удивляясь впоследствии, как было просто и легко то, что прежде казалось неразрешимо трудным. Вместе с тем тут же, отказывая полковнику, он решил, что необходимо употребить хитрость для того, чтобы, уезжая из Орла, заставить итальянского офицера взять денег, в которых он, видимо, нуждался. Новым доказательством для Пьера его утвердившегося взгляда на практические дела было его решение вопроса о долгах жены и о возобновлении или невозобновлении московских домов и дач.
В Орел приезжал к нему его главный управляющий, и с ним Пьер сделал общий счет своих изменявшихся доходов. Пожар Москвы стоил Пьеру, по учету главно управляющего, около двух миллионов.
Главноуправляющий, в утешение этих потерь, представил Пьеру расчет о том, что, несмотря на эти потери, доходы его не только не уменьшатся, но увеличатся, если он откажется от уплаты долгов, оставшихся после графини, к чему он не может быть обязан, и если он не будет возобновлять московских домов и подмосковной, которые стоили ежегодно восемьдесят тысяч и ничего не приносили.
– Да, да, это правда, – сказал Пьер, весело улыбаясь. – Да, да, мне ничего этого не нужно. Я от разоренья стал гораздо богаче.
Но в январе приехал Савельич из Москвы, рассказал про положение Москвы, про смету, которую ему сделал архитектор для возобновления дома и подмосковной, говоря про это, как про дело решенное. В это же время Пьер получил письмо от князя Василия и других знакомых из Петербурга. В письмах говорилось о долгах жены. И Пьер решил, что столь понравившийся ему план управляющего был неверен и что ему надо ехать в Петербург покончить дела жены и строиться в Москве. Зачем было это надо, он не знал; но он знал несомненно, что это надо. Доходы его вследствие этого решения уменьшались на три четверти. Но это было надо; он это чувствовал. 23 сентября 2015
Большевизм, фашизм, национал-социализм – родственные феномены?
Леонид ЛЮКС
Заметки к одной дискуссии
Большевизм, фашизм и национал-социализм, одновременно возникшие на исторической арене, знаменовали приход новой политической эпохи
В центре внимания моих заметок — три движения или режима, взорвавшие все традиционные понятия политической науки. Цели, которых они пытались достичь, были сформулированы уже некоторыми радикальными мыслителями XIX века, однако вообще по характеру своему эти цели были совершенно утопическими. В XX веке выяснилось, однако, что эти утопии не столь далеки от жизни, как это представлялось вначале.
Осуществление утопических грёз XIX столетия стало возможно не в последнюю очередь благодаря тому, что проводились они в жизнь действительно революционными методами. Уже Первая мировая война с её тотальной мобилизацией и высокоразвитой технологией уничтожения людей показала, на каком хрупком основании до сих пор базировалась европейская цивилизация. Не зря многими современниками эта война расценивалась как «мировая катастрофа».
Все три движения, о которых мы говорим, — большевизм, итальянский фашизм, национал-социализм — обязаны своим возвышением именно этой войне. Однако Первая мировая война, несмотря на революцию в технике уничтожения, которая ей сопутствовала, не руководствовалась какими-либо революционными целями. Цели участников войны, этой «мировой катастрофы», не взрывали рамок традиционной великодержавной политики. И только режимам, возникшим на развалинах европейского порядка 1914 года, предстояло перевернуть все прежние представления о политике.

Классический тезис: «политика — искусство возможного» был грубо осмеян ими. Искать компромисса с внутриполитическим оппонентом, как это было характерно для времён либерализма, им и в голову не приходило. Общий процесс эмансипации, развернувшийся в ХIХ столетии, приведший к освобождению общества из-под государственного контроля, новейшими тираниями был мгновенно свёрнут. Но, в отличие от авторитарных государств старого толка, деспотии XX века не ограничились политическим подавлением своих подданных.
Они не только исключили общество из политики и атомизировали его, но и подчинили его идеологической доктрине. Прежнего, скептического человека, доставшегося им от либеральных времён, они постарались уничтожить и создать вместо него нового человека. Этот новый человек должен был слепо повиноваться вышестоящим и верить в непогрешимость вождя и партии.
Неудивительно, что в этом отношении большевизм, фашизм и национал-социализм, одновременно возникшие на исторической арене и знаменовавшие приход новой политической эпохи, многим авторам, в том числе и некоторым коммунистам, представлялись сущностно родственными явлениями.
1. Большевистская и фашистская/нацистская тактика борьбы за власть
В ноябре 1922 года, то есть вскоре после так называемого похода на Рим, один из коммунистических авторов писал о Бенито Муссолини:
«У фашизма и большевизма общие методы борьбы. Им обоим всё равно, законно или противозаконно то или иное действие, демократично или недемократично. Они идут прямо к цели, попирают ногами законы и подчиняют все своей задаче» (1).

Николай Бухарин:
«Характерным для методов фашистской борьбы является то, что они больше, чем какая бы то ни было партия, усвоили себе и применяют на практике опыт русской революции»
Несколько месяцев спустя сходную мысль высказал Николай Бухарин:
«Характерным для методов фашистской борьбы является то, что они больше, чем какая бы то ни было партия, усвоили себе и применяют на практике опыт русской революции. Если их рассматривать с формальной точки зрения, то есть с точки зрения техники их политических приёмов, то это полное применение большевистской тактики и специально русского большевизма: в смысле быстрого собирания сил, энергичного действия очень крепко сколоченной военной организации, в смысле определённой системы бросания своих сил (…) и беспощадного уничтожения противника, когда это нужно и когда это вызывается обстоятельствами» (2).
Эти и подобные тезисы лежали в основе теории тоталитаризма, которая подчеркивала поразительные сходства между коммунистическими и фашистскими режимами и движениями.
Верно ли, что большевистская тактика служила образцом для фашистов, а впоследствии для национал-социалистов? Верно ли, что своим первоначальным успехом они были обязаны в первую очередь той бескомпромиссности и воле к власти, которой научились от большевиков? Конечно, нет. В отличие от большевиков, ни фашисты, ни национал-социалисты не были в состоянии захватить власть в одиночку. Они нуждались в мощных союзниках и вербовали их себе в рядах господствующего истеблишмента Италии (или, соответственно, Веймарской республики).
В своём очерке истории русской революции Лев Троцкий пишет, в частности, что одного-двух верных правительству и дисциплинированных полков было бы достаточно, чтобы предотвратить большевистский переворот. То, что таких воинских частей не нашлось, показывает, как далеко зашёл развал российского государственного аппарата в промежутке между Февральской и Октябрьской революциями.
Ни в Италии, ни в Германии не было и речи о подобной деморализации в правящих верхах. Послевоенный кризис их, разумеется, ослабил, но ключевые позиции в аппарате власти они прочно удерживали в своих руках. Все революционные выступления, все попытки переворота как слева, так и справа ими успешно отражались.
Из того обстоятельства, что в странах Запада практически невозможно оказалось захватить власть против воли правящей элиты, крайне правые очень скоро сделали соответствующие выводы. Они обнаружили большую гибкость, большую способность учиться, нежели Коминтерн. Если западные коммунисты продолжали свои фронтальные атаки на государство, итальянские фашисты, а несколько позднее и национал-социалисты начали борьбу за тех, в чьих руках была сосредоточена власть. Они следовали двойственной тактике: подобострастно «легалистской» по отношению к правящей верхушке и бескомпромиссно насильственной — к «марксистам».
Расходясь с существующей правовой системой ничуть не менее радикально, чем коммунисты, они вместе с тем подчеркивали, что сама их борьба, ведомая нелегальными методами, служит лишь восстановлению порядка и авторитета власти.
«Фашизм возник вслед за социалистическим экстремизмом как логическое, закономерное (…) средство противодействия», — утверждал Муссолини в ноябре 1920 г. Гитлер сам в ходе мюнхенского процесса 1924 г. называл себя фюрером революции против революции.
Но качественное различие между применением насилия справа или слева видели не только фашисты и национал-социалисты. Сходным образом мыслили многие итальянские и немецкие консерваторы, и это стало решающим фактором успеха крайне правых.
Гитлеровская идея «легальной революции», вызывавшая насмешки многих современников, в условиях Веймарской республики была явно перспективнее программы «пролетарской революции». Сходным образом дело обстояло и в Италии 1920-х гг. Там новый режим также возник не вследствие насильственного переворота, как в октябре 1917 года в России, а на основе компромисса.
Как фашисты, так и национал-социалисты пытались затушевать это обстоятельство, им тоже хотелось бы гордиться тем, что они, как и большевики, открыли новую эру в истории. Поэтому в обоих случаях свой приход к власти они старались стилизовать под её захват, даже под революцию. Широкие массы сторонников двух этих движений воспринимали события 1922 г. в Италии и 1933 г. в Германии также как своего рода революции. Вместе с тем, путь социальной революции в обеих этих странах был закрыт из-за заключения союза фашистов и национал-социалистов с консервативной правящей элитой. Территориальная экспансия оказалась, в сущности, тем единственным клапаном, через который можно было выпустить создавшееся при этом социальное напряжение.
То, что тоталитарные режимы в России, с одной стороны, и в Италии и Германии, с другой — имели разные истоки, обусловило и различный характер этих режимов, в том числе и на более поздних стадиях их развития. До конца 1950-х гг. эти различия нередко оставлялись без внимания западными теоретиками тоталитаризма.
Лишь в 1960-е гг. в теории начались заметные сдвиги. Чем более детальному исследованию подвергали фашизм, национал-социализм, большевизм, тем больше обнаруживалось отличий. Поэтому некоторые авторы даже поставили под вопрос само понятие фашизма (3). Исследователи большевизма, со своей стороны, начали всё жестче разделять сталинский, до- и послесталинский периоды развития советского государства (4). Интенсивное изучение особенностей отдельных тоталитарных диктатур не сопровождалось сравнительным анализом. Исследования фашизма и коммунизма развивались теперь сравнительно независимо друг от друга, и у них становилось всё меньше точек соприкосновения.
Мало что изменил здесь и так называемый спор немецких историков, начатый в 1986 г. Эрнстом Нольте. Пытаясь снять с Третьего рейха и Освенцима клеймо исторической исключительности, Эрнст Нольте и его единомышленники указывали на множество параллелей между советским режимом и нацистским государством. Эти параллели давно известны, их подробно исследовали ещё классические теоретики тоталитаризма. И если отвлечься от апологетических пассажей его работ, Нольте в «споре историков» не сказал ничего принципиально нового.
2. Большевистская вера в прогресс
В конце 1980-х гг., в пору горбачёвской перестройки, теория тоталитаризма неожиданно возродилась в Советском Союзе. В течение нескольких десятилетий она представлялась догматикам сталинского толка средством идеологической борьбы в руках классового врага — капитализма. Вследствие горбачёвских реформ расшатались некоторые догмы, прежде казавшиеся неколебимыми, что привело, в частности, к снятию табу с теории тоталитаризма. Многие российские авторы с этого момента также начали, вслед за некоторыми западными коллегами, продолжая дело создателей теории тоталитаризма 1920-х гг., говорить о разительном сходстве между большевизмом и фашизмом (5).

Однако современные российские представители концепции родства двух феноменов, как и их предшественники, недооценивали тот факт, что между коммунизмом и фашизмом, по крайней мере, в прошлом, существовала почти непереходимая пропасть.
Эта несопоставимость связана не в последнюю очередь с тем, что большевизм в идеологическом плане был укоренён в принципиально иной традиции, нежели фашизм, а в особенности национал-социализм. Большевики были страстными приверженцами веры в прогресс и науку, унаследованной от классиков марксизма.
Маркс развивал свои идеи в эпоху, когда в Европе господствовали позитивистский оптимизм, вера в прогресс. Научная революция начала XX в., в корне перевернувшая позитивистские верования в устойчивость материального мира и законов природы, не коснулась марксизма как системы. В начале века отдельные представители марксизма испытали влияние таких мыслителей, как Бергсон, Ницше, Владимир Соловьёв или Эйнштейн , попытались соединить марксизм с некоторыми новыми идеями. Ленин принадлежал к числу наиболее ожесточённых противников подобного рода экспериментов. Нельзя исправлять Маркса, повторял он снова и снова. Партия — не семинар, на котором обсуждаются разные новые идеи. Это боевая организация с определённой программой и с чёткой иерархией идей. Вступление в такую организацию влечёт за собой безусловное признание её идей (6). Ленин оставался верен наивному материалистическому оптимизму XIX в., не имея достаточно полного представления о новых идеях и проблемах, затронутых европейской культурой в XX в. И этой его установке предстояло стать характерной для большевизма в целом.
Но у большевиков были и иные причины верить в прогресс — причины, неразрывно связанные с особенностями развития России. К началу века Россия оставалась промышленно неразвитой страной, технологический прогресс был ей остро необходим. На Западе же, напротив, индустриализация и урбанизация достигли к этому времени такой стадии развития, что породили сомнения в осмысленности самих этих процессов. Понять, в чём состояла сущность того кризиса модернизации, в котором находился Запад, большевики не могли. Они исходили из российской ситуации и полагали, что страна тем ближе подходит к решению всех своих социальных проблем, чем больше она производит промышленной продукции. Что именно в Германии, крупнейшей индустриальной державе Европы, могло прийти к власти национал-социалистическое движение, отвергавшее модернизацию и мечтавшее об «аграрной Германии» — такого большевики понять не могли. Всякую критику в адрес научно-рационального и материалистического миропонимания они воспринимали как пережиток тёмных суеверий прошлого. Свою веру в науку они считали последним словом европейской культуры. Популяризация научных и технологических «чудес» должна была заменить в большевистской России веру в религиозные чудеса. И надо сказать, что в 1920-е- 30-е гг. вера в науку в России действительно приобрела почти религиозный характер.
3. Культурный пессимизм правых радикалов
У национал-социалистов коммунистическая вера в прогресс, в будущее, могла вызвать лишь насмешку. Они не собирались плыть по течению истории. Напротив, они пытались любой ценой овладеть им, обратить его вспять. Повсюду им виделись приметы разложения и упадка, за которыми мерещились тени мощного всемирного заговора. «Закат Европы», по их мнению, можно было предотвратить, обезвредив инициаторов этого заговора, — евреев, масонов, плутократов и марксистов.

К числу идеологических предтеч фашизма и национал-социализма относятся европейские пессимисты, ещё на рубеже ХIХ-ХХ веков распространявшие видения близящегося заката европейской культуры. Одну из величайших опасностей, грозящих европейской цивилизации, они усматривали в так называемом «восстании масс». Организованное рабочее движение они считали наиболее опасной силой такого восстания.
Чтобы противостоять этой опасности, угрожающей снизу, идеологические предшественники фашистов и национал-социалистов, такие, например, как социал-дарвинисты, предлагали пересмотреть существующие понятия морали. Так, по их мнению, не слабых и угнетённых нужно защищать от сильных, а наоборот, сильных и лучших — от слабых, то есть от большинства, массы. Сострадание к слабому представлялось им совершенно отжившей идеей (7).
Позднее эти представления подхватили национал-социалисты. Они идеализировали законы биологической природы и пытались целиком перенести право сильного, царящее в природе, на человеческое общество.
По своей хозяйственной и социальной структуре Италия занимала промежуточное положение между Россией и Германией. Большая разница между Югом и Севером в уровне индустриального развития привела к тому, что в Италии одновременно развёртывались два противоположных процесса. С одной стороны, кризис модернизации, кризис либерализма со всеми его пессимистическими выводами, — как в Германии, с другой же — тенденция к модернизации отсталой части страны, как в России. Итальянский фашизм соединял в себе обе эти тенденции.
Немецко-русский социал-демократ Александр Шифрин писал в 1931 г.: в Италии существует самый современный фашизм внутри слаборазвитого капитализма, в Германии же, напротив, отсталый фашизм в сложном и высокоразвитом капиталистическом пространстве. Шифрин полагал, что попытка национал-социалистов реализовать их утопические социальные и хозяйственные проекты не выдержит жёсткого отпора со стороны немецких капиталистов. Гитлер не понимает законов современного высокоиндустриализированного общества. Отсюда его ненависть к «сокрушительной мощи» крупного капитала (8). Как считал Шифрин, большинству немецких капиталистов было ясно, что национал-социалистическое мировоззрение идёт вразрез с важнейшими хозяйственными принципами тогдашнего немецкого общества. Однако он переоценивал дальновидность тогдашнего большинства немецких промышленных магнатов.
4. Большевистское и фашистское отношение к элитам
Отношение итальянских фашистов к модернизации можно обозначить как промежуточное между позициями национал-социалистов и большевиков. Оно было, с одной стороны, более оптимистичным, чем позиция национал-социалистов, но, с другой стороны, в нём присутствовали пессимистические ноты, которых не было у большевиков. Либеральная парламентаристская система работала в Италии хуже, чем где-либо в Западной Европе, поэтому и критика парламентаризма в Италии была особенно остра. Здесь очень рано начались поиски альтернативы парламентско-демократической системе. Вопрос об обновлении, о возрождении правящей элиты был в Италии начала XX века особенно насущным. Анализируя механизм образования элиты, итальянские мыслители достигли примечательных результатов.

Для большевиков иерархически-элитарный принцип представлялся идеалом «реакционного», отмирающего класса. Идеал равенства они считали единственно возможной и оправданной целью массовых революционных движений. Фоторабота Александра Родченко «Колонна “Динамо”» (1930)
Многие мыслители из других европейских стран работали над сходными проблемами и тоже создавали модели, по которым можно было бы заново создавать элиты. Однако в Италии критика существующей системы должна была иметь особенно весомые политические последствия, так как социально-политическая структура Италии отличалась необычайной лабильностью (неустойчивостью — прим. SN). Из-за этой лабильности Италии пришлось сыграть роль сейсмографа, особенно чувствительного к определённым политическим процессам в новой Европе. Возможно, поэтому Италия и стала первой европейской страной, в которой к власти пришло анти-парламентаристское, праворадикальное массовое движение, ставившее целью обновление правящей элиты.
Для большевиков иерархически-элитарный принцип представлялся идеалом «реакционного», отмирающего класса. Идеал равенства они считали единственно возможной и оправданной целью массовых революционных движений. Эту веру большевики унаследовали от дореволюционной русской интеллигенции.
Русская интеллигенция, сама будучи элитой нации, считала, что кризис, в котором находилась Россия на рубеже веков, можно преодолеть не путём создания новой, сильной и жизнеспособной элиты, а путём отказа от каких бы то ни было элит. Русская этика — этика эгалитаристская и коллективистская, пишет эмигрантский историк Георгий Федотов. Из всех форм справедливости равенство для русских — на первом месте (9).
Чувство вины русской интеллигенции перед собственным народом, возмущение социальными несправедливостями достигали беспримерной интенсивности. Простой народ идеализировался русской интеллигенцией как воплощение добра. Все понятия, все культурные достижения, недоступные пониманию угнетённых классов, отбрасывались как излишние и безнравственные.
«Долгое время у нас считалось почти безнравственным отдаваться философскому творчеству, — пишет философ Николай Бердяев , — в этом роде занятий видели измену народу и народному делу. Человек, слишком погруженный в философские проблемы, подозревался в равнодушии к интересам крестьян и рабочих» (10).
Представители интеллигенции сами себя считали лишними — коль скоро им не удавалось все силы отдавать на служение народу.
Большевики унаследовали от русской революционной интеллигенции убеждение, что «истинная» революционная партия непременно должна бороться за свержение любой элиты, против самого иерархического принципа. Правда, у большевиков было определение партии как «авангарда рабочего класса», но оно существенно отличалось от фашистского понятия элиты. Цель авангарда — по крайней мере, в теории — проведение в обществе эгалитарного принципа, а не нового иерархически-элитарного. Несмотря на тот факт, что общество, построенное большевиками после революции, всё-таки носило иерархический характер, идее равенства в большевистской идеологии по меньшей мере до начала 1930-х гг. придавалась высочайшая ценность.
Хотя большевики установили беспримерный по своей жесткости деспотический режим, сами себя они продолжали считать защитниками угнетённых и обездоленных. Тем самым они остались верны некоторым традиционным европейским представлениям, восходящим к Ветхому и Новому Завету. Правда, большевики грубо подавляли любые конфессиональные объединения. Но при этом они сами претендовали на то, что смогут честнее и эффективнее, чем церковь, отстаивать идеалы социальной справедливости и равенства. Национал-социалисты, напротив, совершенно отказались от этих идей. И их враждебность по отношению к исходному европейскому образу человека привела к тому, что их самих в конце концов стали считать врагами всего человечества. Это обстоятельство легло в основу одного из самых противоестественных во всемирной истории альянсов — союза англосаксонских демократий со сталинским режимом, режимом, гора трупов под которым была ничуть не меньше, чем под Третьим Рейхом.
При этом не следует забывать, что западные державы первоначально позволяли себе заигрывание с Гитлером. Гитлер разыгрывал роль защитника Европы от большевистской угрозы, и поначалу ему вполне удалось убедить некоторых западных политиков. Однако в конце концов в Лондоне и Париже поняли, что Гитлер не способен к самоограничению, что вероломство относится к числу его основных принципов. Уже в 1936 г. — то есть во времена западной политики умиротворения — это заметил немецкий социал-демократ, биограф Гитлера Конрад Хейден. Он писал: «Гитлер не тот человек, с которым находящийся в здравом уме станет заключать договоры, это — явление, которое можно или победить или быть поверженным им» (11).
К пониманию этого обстоятельства в Лондоне пришли в 1940 г., когда руководство правительством перешло к Черчиллю . Когда в июне 1941 г. началась война Германии против Советского Союза, Черчилль, с 1917 г. принадлежавший к числу самых радикальных антикоммунистов, ни минуты не сомневался, какую из двух деспотий следует поддерживать Великобритании.
Эрнст Нольте, которого никак невозможно подозревать в симпатии к большевикам, пишет по этому поводу: «Советский Союз, невзирая на ГУЛАГ, был ближе западному миру, чем национал-социализм с его Освенцимом» (12).
5. Большевизм и национал-социализм на международной арене
Поведение Гитлера на международной арене соответствовало модели, которую позднее сформулировал Генри Киссинджер
, определивший внешнюю политику революционной державы. Эта держава в принципе неспособна к самоограничению. Дипломатия в традиционном смысле, сущность которой составляют компромисс и признание собственных границ, была практически отброшена революционными государствами, так как шла вразрез с их конечными целями.

По своей хозяйственной и социальной структуре Италия занимала промежуточное положение между Россией и Германией. Большая разница между Югом и Севером в уровне индустриального развития привела к тому, что в Италии одновременно развёртывались два противоположных процесса. С одной стороны, кризис модернизации, кризис либерализма со всеми его пессимистическими выводами, - как в Германии, с другой же - тенденция к модернизации отсталой части страны, как в России
Конечной целью Гитлера было: завоевание жизненного пространства на Востоке; уничтожение евреев и коммунистов. И он твёрдо решил добиться осуществления этих целей уже в кратчайшие сроки. Он снова и снова повторял, что не хочет оставлять исполнение этой великой задачи своим преемникам. В то же время, у него было чувство, что время работает против «нордической расы», что она постепенно разрушает саму себя. К этим характерным особенностям многие историки возводят головокружительную радикализацию национал-социалистической политики, попытки в один миг создать новый мировой порядок, то есть мир без евреев, цыган и душевнобольных.
Коммунисты тоже стремились к установлению нового мирового порядка. Однако у них никогда не было точной даты, когда это «светлое будущее» должно наступить. Их время было не столь ограниченно, как время Гитлера. Они действовали в убеждении, что история на их стороне, так как всемирная победа коммунизма была, по их мнению, исторически неотвратима. Поэтому и рискованные политические шаги в направлении скорейшего приближения этой победы были не нужны. Поэтому внешняя политика большевиков, как правило, была достаточно осторожной и гибкой. Большевики не раз совершали однозначно агрессивные шаги, но, как правило, — в отношении изолированных, в силовом отношении безнадёжно уступающих Советскому Союзу государств, так что риск сводился к минимуму. Случаи игры ва-банк — характерная черта гитлеровской модели поведения — в советской политике встречались редко.
И ещё несколько слов о фашистской Италии. Следует заметить, что итальянский фашизм, несмотря на свои агрессивные жесты и вопреки своей жажде войны, не сумел придать нового измерения самому понятию войны. Поле действий Муссолини, благодаря сильной позиции итальянских консерваторов, оказалось сильно ограничено, да и военные силы Италии были весьма скромны. Консерваторам, поддерживавшим Муссолини, удалось взять под контроль процесс радикализации фашистской диктатуры и ввести режим в институциональные, прежде всего, династические рамки. Поэтому многие авторы справедливо оценивают итальянский фашизм как «незаконченный тоталитаризм» (13). Массовых убийств, ставших конститутивной чертой как национал-социализма, так и сталинизма, здесь не было. Как заметил в 1941 г. немецко-американский политолог Зигмунд Нойманн , итальянский фашизм, несмотря на свою манию величия, не начал мировой революции; это сделал лишь национал-социализм (14).
Развивая новые представления о войне, НСДАП могла опереться на то, что милитаризация политической мысли в Германии имела давнюю традицию. Английский историк Льюис Нэмьер даже назвал войну одной из форм немецкой революции (15). Но было бы неверно считать, что Гитлер довёл до логического конца прусский милитаризм. Ведь мировоззренческая война на уничтожение, развязанная национал-социалистами, не имела ничего общего с прусской традицией.
Однако новый способ ведения войны, при котором были сметены все до тех пор существовавшие нормы этики и военного права, оказался возможным потому, что он нашёл поддержку у существенной части немецкого офицерского корпуса. Другой английский историк, Алан Баллок , указал на то, как мала, в сущности, была роль столь самодовольного германского генштаба во второй мировой войне (16). Легко заметить также, что офицеры, принявшие гитлеровское понятие войны без какого-либо существенного сопротивления, сомневались, можно ли нарушить законы прусского кодекса чести, а таковым они считали присягу «фюреру», несмотря на то, что Гитлер был тираном и основателем стратегии уничтожения. Заметное сопротивление деспоту способны были оказать лишь немногие. Многие боялись «анархии» и «коммунистической угрозы» в случае свержения Гитлера.
Нельзя не заметить здесь параллели с поведением большевистских противников Сталина, так называемых старых большевиков, подавляющее большинство которых отказалось от применения силы против тирана (17). И здесь решающую роль сыграл страх перед анархией и распадом системы. О систематическом и последовательном противодействии сталинской деспотии со стороны старых большевиков не может быть и речи. И при этом не следует забывать, что старые большевики отнюдь не были пацифистами, чуждыми насилия. Они без какого бы то ни было сомнения применяли грубо террористические методы борьбы против так называемого классового врага. Но поместить Сталина в категорию «классовых врагов» они были не в состоянии.
Сталин и Гитлер знали моральные колебания и табу своих оппонентов и бессовестно пользовались ими. Конрад Хейден говорил о Гитлере, что тот знает своих противников лучше, чем они сами знают себя, поскольку он внимательно следит за ними и поскольку игра на чужих слабостях составляет важную часть его политики (18). Эти слова Хейдена можно применить и к Сталину. Как Сталин, так и Гитлер понимали, каких границ не смогут переступить их политические противники.
6. Культ вождя в большевизме, фашизме и в национал-социализме
В заключение ещё некоторые соображения относительно культа вождей, представлявшего собой как при крайне правых режимах, так и в Советском Союзе при Сталине своего рода государственную доктрину.

Вождистские амбиции Муссолини и Гитлера были с такой готовностью поддержаны многочисленными группировками в Италии и Германии, поскольку оба диктатора играли на тоске многих итальянцев и немцев по сильному «государю», «цезарю», возникшей ещё на рубеже ХIХ-ХХ веков.
Харизматический вождь, пришествие которого многие европейские мыслители предсказывали ещё в XIX в. и в начале XX в. — кто с тревогой, кто с надеждой, — призван был заместить господство безличных институций господством личной воли. Непрозрачные, сложные институциональные образования, с одной стороны, подавляют человека своей анонимностью, с другой — обнаруживают бессилие, когда речь идёт о преодолении кризиса. Отсюда широко распространённое желание вернуть в политику личность, тоска о харизматическом герое. Эта тоска, в сочетании с твердым убеждением как Муссолини, так и Гитлера, что они-то и есть «цезари», которых так ждала Европа, расчистили обоим дорогу к власти.
Цезаристская идея имела давнюю историю в европейской традиции. Уже Макиавелли мечтал о вожде, который своими подвигами и героическими деяниями освободит Италию от закосневших традиционных установлений и объединит страну. Примером для «князя» Макиавелли стали итальянские кондотьеры эпохи Возрождения. Они возникали из ничего, всем бывали обязаны только самим себе и благодаря своим выдающимся личным качествам достигали славы и власти. Они смещали все династии и институции и проводили коренные преобразования в государствах, подчиненных их господству.
Наполеон также воплощал собой, разумеется, в гораздо больших масштабах, тот же самый принцип.
В русской истории, напротив, «цезаристские» тенденции практически не имели места. На Руси бывали цари, проводившие в русском обществе не менее радикальные преобразования, чем «цезари» на Западе. Но всякий раз речь шла при этом об этатистской революции сверху, которую инициировали и осуществляли легитимные правители России. Поддержка низших слоев русского народа, на которую иногда опирались цари, также мало похожа на европейское преклонение перед фигурами «цезаристского» толка. Царя почитали не за его личные качества или подвиги, а скорее как носителя определённых функций. В нём видели хранителя православной веры и естественного лидера религиозно санкционированного политического порядка.
Первоначально большевизму также был чужд культ вождей. В этом он отличался от фашизма и национал-социализма, которые с самого начала фиксировались на личности фюрера. Напротив, большевизм был первоначально структурирован по идеократическому принципу. Здесь высшей инстанцией выступало учение, сначала марксистское, потом марксистско-ленинское. Но в 1930-е гг. партия большевиков постепенно превратилась в партию с вождём во главе. Культ Сталина приобрёл в СССР характер государственной доктрины. В создании этого культа принимали участие не только марионетки и выученики Сталина, но и многие большевики первого поколения, вовсе не убеждённые в его непогрешимости и всеведении. Почему же они преклонялись перед Сталиным? Они делали это по вполне макиавеллистскому расчёту. Культ вождя, по их мнению, должен был, прежде всего, придать стабильность партии, переживавшей после смерти Ленина период разброда и фракционной борьбы.
Так и в Германии в создании культа фюрера участвовали не только его преданные сторонники, но и представители старой элиты, следовавшие совсем иным традициям. С НСДАП их связывала общая ненависть к Веймарской республике. Веймар воплощал собой разброд, декаданс, внешнеполитическое унижение, а также не в последнюю очередь – «гнилой» компромисс с внутриполитическим противником, то есть с социал-демократией. Они идеализировали старый патриархальный порядок, но при этом хорошо сознавали, что в современном политизированном обществе их реставраторская программа не имеет шансов осуществиться. Принцип вождизма казался им в данном случае идеальным выходом из положения. С одной стороны, он связывал воедино политизированные массы и в то же время означал конец эпохи компромиссов с классовым врагом, то есть с социал-демократическим рабочим движением.
Эрнст Никиш — один из самых радикальных критиков Гитлера — характеризовал поведение правящей элиты Германии в 1936 г. такими словами:
«(Они) были сыты по горло господством безличного закона и презирали ту свободу, которую он даёт; они хотели служить “человеку”, личностному авторитету, (…), фюреру. Они предпочитали перепады настроения, самодурство и произвол личного “вождя” строгой регламентации и жёстким правилам нерушимого законного порядка» (19).
Расчёт их, в конце концов, оказался в высшей степени опрометчивым. Так же ошиблись и большевики, на чьих плечах была выстроена новая система. Как в Германии, так и в Советском Союзе не учли, что система с вождём-фюрером во главе означает неограниченный и неконтролируемый произвол, который неизбежно обрушится однажды и на тех, кто его создавал. Ибо любая критика в адрес непогрешимого вождя рассматривалась как святотатство, и это обстоятельство надолго сковало всякое сопротивление диктаторам.
(Перевод с немецкого)
Примечания:
1. Die Kommunistische Internationale 4.11.1922, S. 98.
2. Двенадцатый съезд РКПб, 1923. Стенографический отчет. М. 1968. С. 273.
3. Turner H.A. Fascism and Modernisation // World Politics 24, 1974, p. 547-564; Allardyce, G. What Fascism is Not: Thoughts on the Deflation of a Concept // American Historical Review 84, 1979. p. 361-388.
4. Cohen S.F. Bolshevism and Stalinism / Tucker R.С., Ed. Stalinism. Essays in Historical Interpretation. NY, 1977. Tucker R..С. Stalin as Revolutionary 1879-1929. NY, 1973. Hough J.F., Fainsod, M. How the Soviet Union is Governed. Cambrige / Mass 1979, p. 522 f. Deutscher I. Russia in Transition / Ironies of History. Essays on Contemporary Communism. L. 1967, p. 27-51.
5. Игрицкий Ю.И. Концепция тоталитаризма: уроки многолетних дискуссий на Западе // История СССР, 6, 1990. C. 172-190. Gadshijew K. Totalitarismus als Phдnomen des 20. Jahrhunderts в: / Jesse E., Hrsg.: Totalitarismus im 20 Jahrhundert. Eine Bilanz der internationalen Baden Baden 1996, S. 320-339. Хорхордина Т.Ш. Архивы тоталитаризма (Опыт сравнительно-исторического анализа) // Отечественная история, 6, 1994. С. 145-156.
6. Валентинов Н. В. Встречи с Лениным. Нью-Йорк, 1979. С. 252.
7. Zmarzlik, H. G. Der Sozialdarwinismus in Deutschland. Ein geschichtliches Problem // Vierteljahrshefte fьr Zeitgeschichte, 1963, S. 246-273.
8. Wandlungen des Abwehrkampfes // Die Gesellschaft, 4, 1931, S. 409 f.
9. Федотов Г. Народ и власть // Вестник Российского Студенческого Христианского Движения, 94, 1969. С. 89.
10. Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда / Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М. 1991. С. 12.
11. Heiden K. Adolf Hitler. Das Zeitalter der Verantwortungslosigkeit. Eine Biographic Zurich 1936. 347.
12. Nolte E. Der Europдische Bьrgerkrieg 1917-1945. Nationalismus und Bolschewismus. B. 1987. S.549
13. Aquarone A. L’ organizzazione delle Stato totalitario. Turin, 1965; Sarti R. Fascism and the Industrial Leadership. The Study in the Expansion of Private Power under Fascism. Berkeley 1971, p. 69; Bracher K.D. Zeitgeschichtliche Kontroversen. Um Faschismus, Totalitarismus, Demokratie. Munchen 1976. S. 23.
14. Neumann S. Permanent Revolution. Totalitarism in the Age of International Civil War. NY 1965, p. 111.
15. Namier The Course of German History. / Facing East. London 1947, p. 25-40.
16. Bullock A. Hitler, Eine Studie uber Tyrannei. Dusseldorf 1977. S. 65 1f.
18. Heiden K., Op. cit., S. 266.
19. Niekisch E. Das Reich der niederen Dämonen. Hamburg, 1953, S. 87.
Национал-большевизм - это радикальное политическое движение, философия которого основана на консенсусе крайне левых и крайне
До сих пор не выработано единого определения и концепции данной политической мысли. Разные идеологи по-своему смотрели на движение и имели собственные идеи. Национал-большевизм был крайне популярен в Германии в межвоенный период и в России после распада Советского Союза.
Зарождение
За всю историю своего существования национал-большевики (нацболы) не смогли создать влиятельного политического движения. Поэтому довольно трудно проследить историю появления данной политической парадигмы.
Считается, что впервые такие взгляды были озвучены в 1919 году. В то время Европу охватил серьёзный политический кризис. Политические идеи, некогда считавшиеся утопическими, реализовались посредством переворотов и революций. В тот период были крайне популярны два новых течения: коммунизм и "неонационализм". Оба лагеря являлись оппозиционными друг другу. Однако некоторые мыслители находили в этих, казалось бы, противоположностях, сходные черты.
Революционное движение
Во многом национал-большевизм обязан своим появлением победе революции в России. Пришедшие к власти коммунисты стояли на позициях интернационализма. Однако некоторые деятели считали, что возможно построение и в дальнейшем коммунизма, основываясь на этнических традициях народов. Такие взгляды были очень популярны в Германии.
Раздираемая гражданскими волнениями страна, которая только что проиграла войну, скатывалась в пучину кризиса. Веймарская республика находилась в тотальной международной изоляции. Пресса и официальные лица европейских держав использовали в отношении немцев такие термины как "самая презираемая нация в Европе" и так далее.

Подобное способствовало росту национализма и сильного понятия единства среди самих немцев. Кроме того, в международной изоляции пребывала и другая страна - Советская Россия. Коммунисты категорически не принимали унижений по национальному признаку и добились значительных успехов в реформах социальной жизни населения. Берлинский профессор Пауль Эльцбахер разрабатывает концепцию союза новой Германии с Советской Россией.
Концепция союза
Прежде всего, у концепции объединения России и Германии, каковой её рассматривал национал-большевизм, была геополитическая подоплёка. Две страны занимали важнейшие места в политической жизни Европы и всего континента. Соединённые Штаты тогда не имели такого влияния на Старый свет, какое появилось у них после Второй мировой войны. Поэтому была высказана мысль, что союз Германии и России будет контролировать весь мир.

Национал-большевики предлагали создать новую политическую платформу на основе большевистской революции, но с сохранением национальных традиций и использованием этнической идентичности как двигателя революции.
Антикапитализм
Идеология национал-большевизма зиждется на радикальном неприятии капитализма. Все теоретики признавали существование классовой войны. В этой сфере парадигма практически полностью копирует взгляды, высказанные коммунистами. В соответствии с теорией считается, что весь мир делится на угнетателей и угнетённых. Но если левые рассматривают капиталистическую систему только как метод экономической эксплуатации, то нацболы рассматривают проблему и с "правой" стороны. Они считают, что капиталистический образ жизни не только исключает равные права на производимые блага, но и приводит к деградации масс.

Безнравственность капитализма активно использовалась нацболами в своей агитации, как впрочем, и коммунистами.
Немецкий взгляд
Фридрих Ленц создаёт организацию "Дер Воркампфер". Национал-большевизм обретает первую политическую партию. Многие исследователи склонны относить братьев Штрассеров к нацболам. Оппоненты Гитлера внутри национал-социалистической партии отвергали патологический расизм своего фюрера и считали, что основные усилия должны идти на борьбу с классовым врагом. Нацболы выступали за полную национализацию всей частной собственности на средства производства. При этом предлагалось ввести жёсткое государственное управление всех секторов экономики. В этом плане национал-большевики были вдохновлены успехами сталинской форсированной индустриализации.
Экономика представлялась как плановая с чётким распределением труда. Ханс Эбелинг написал несколько значимых работ по планированию коллективного хозяйства. Плановый подход был крайне популярен в среде левых западной Европы. Индустриальная эстетика была одним из идентификационных признаков нового национализма и коммунизма.
Национальная идентичность
Основной принцип национал-большевизма предполагал национальные традиции различных народов как двигатель революции. Национальная политика представлялась как достаточно консервативная и традиционалистская. Многие теоретики считали, что только сплочённость народа на основе этнической идентичности поможет построить новое общество. Отношение к религии было разное. Национал-большевики первой и особенно второй волны не были религиозны.

Они считали, что религия лишь проявления национального самосознания, поэтому не выступали против неё так радикально, как это делали коммунисты в России.
В постсоветский период стала очень популярна политическая работа, которую написал Давид Бранденбергер. Национал-большевизм, по его мнению, зародился именно в сталинскую эпоху. Исследователь привёл примеры изменения в советской системе ценностей накануне Второй мировой войны. Советская агитация стала обращаться к национальным русоцентристским мотивам и народным героям прошлого. Делалось это в рамках мобилизации населения перед грядущей войной. Были реабилитированы некоторые деятели царской России: Невский, Кутузов, Распутин и другие. Такие мотивы являются крайне эффективными. Многие политические силы и сейчас их используют.
Национал-большевизм в России
Первые отечественные нацболы появились в среде русской эмиграции. После установления советской власти некоторые диссиденты пересмотрели своё отношение к коммунизму из-за успехов нового режима. Высказывались идеи объединения взглядов и красных большевиков. Некоторые деятели даже писали научные работы и отправляли их в Москву.

Нацболы считали, что замена интернационализма и космополитизма на традиционализм и примордиальный национализм позволят ускорить
Современность
Многие современные нацболы идеализируют сталинскую эпоху СССР, считая её образцом национал-большевистской системы. Во многом это связано с апеллированием советской пропаганды к национальным традициям. После развала Советского Союза в России появилась первая национал-большевистская партия. Её лидером был Наравне с ним во главе стоял философ Дугин и певец НБП запомнились рядом довольно громких акций прямого действия в девяностых годах.
Нацболы захватывали административные здания, срывали заседания правительства, нападали на коррумпированных чиновников.

Движение критиковали как левые, так и правые. Национал-большевизм и троцкизм были всегда в жёсткой оппозиции друг к другу, несмотря на схожесть идей. Также критику
Также нацболы подвергаются критике "справа". Либералы и центристы не принимают резкие антикапиталистические позиции. В девяностых годах национал-большевистское движение приняло поистине широкий размах. Разнообразные объединения были во многих постсоветских странах. В России некоторые нацболы получили большие сроки лишения свободы при довольно странных обстоятельствах. После ареста большинства активистов движение пошло на спад. На данный момент в России и постсоветских странах нет ни одного легального национал-большевистского движения.
Партия провозгласила левый курс. Необходимо определить к чему мы движемся и с какой целью. Необходимо определить место национал-большевиков в левом спектре оппозиции. Потому что само понятие «левый» в современном мире сильно размыто и порой объединяет диаметрально противоположные течения. Левые - это и сторонники диктатуры пролетариата, и мечтатели о безгосударственном обществе. Это и профсоюзные активисты, и борцы за права всевозможных меньшинств. Будет ли партия проповедовать вегетарианство среди бомжей? Или, быть может, выступать за проведение гей-парадов? Разумеется, нет.
Для начала нужно ответить на вопрос: является ли национал-большевизм левой идеологией? Ортодоксы возмутятся: «Мы не левые и не правые, но…» Но всё же, национал-большевизм - это левая идеология. Исторически так сложилось. Корни национал-большевизма - в левом движении.
Эрнст Никиш, немецкий национал-большевик №1, в своей автобиографии «Жизнь на которую я отважился» пишет о том влиянии, которое оказал на него Карл Маркс (но прежде: Ницше). Никиш являлся выходцем из немецкой социал-демократической партии, долгое время участвовал в профсоюзном движении, а в 1918 году даже был избран президентом Баварской Советской республики (просуществовала пару месяцев), за что был судим Веймарским правительством. При этом он активно разоблачал всевозможные ловушки «немецкого народного социализма» от «фольк-социализма» Мёллера ван ден Брука до «прусского социализма» Шпенглера. Что в конечном итоге привело его к яростной борьбе с национал-социализмом. При этом от критики Никиша не ушли и «левые» нацисты братья Штрассеры. Послевоенные работы Никиша посвящены критике буржуазного общества и могут (вернее, должны) быть поставлены в один ряд с трудами Дебора и Маркузе.
К слову, Николай Устрялов - другой пророк национал-большевизма, был видным членом кадетской партии (аналог современного «Яблока»), в круг его ближайших знакомых и коллег входили представители экономизма - легального марксизма (Струве, Туган-Барановский).
Национал-большевизм, как следует из самого словообразования, является производным от большевизма. Об этом я уже говорил в статье . Формулировка кажется мне удачной, поэтому повторюсь: «субстанциональным элементом в идеологии являлся большевизм (в первую очередь как метод и практическая реализация революционной политики), а не национализм, выступающий объективным, естественным требованием времени и условий ». Чтобы было ещё понятнее: без большевизма, вне большевизма, национал-большевизм невозможен.
Большевизму суждено было родиться на русской почве, до этого обильно подготовленной всей русской революционной традицией - от декабристов до народников - существование которой невозможно отрицать. (Стоит отметить, что собственно до начала ХХ века, т.е. до появления убогого российского парламентаризма, русские революционеры равнодушно относились к делению на «левых» и «правых».) Тяга русского народа к социализму, к обществу равенства и справедливости, существовала всегда. Большевики во главе с Лениным вооружили это стремление к лучшему миру сильным - по тем временам - методом: марксистской диалектикой. (Читаем у Маяковского: «марксизм - оружие, огнестрельный метод, применяй умеючи метод этот»). И именно ленинская группировка (зачастую остававшаяся в меньшинстве) сумела адаптировать эту сугубо западную по-немецки рациональную идеологическую конструкцию к реалиям Российской империи. (Другому ленинскому оружию - партии революции - следует посвятить отдельный рассказ).
И Никиш, и Устрялов разглядели в русском большевизме нечто большее, чем просто крайнее, экстремистское течение марксистской социал-демократии. Они увидели в нём по-настоящему народное движение. От революционной интеллигенции оно передалось рабочим, от рабочих - крестьянам, и охватило всю Россию. Старые классы - аристократия и буржуазия - были вынуждены либо бежать, либо приспосабливаться (последнее породило такие формы пред-национал-большевизма как сменовеховство и евразийство). Без этого - без проникновения в народ, во все слои общества - большевизм бы не победил. (Те же, кто считает, что власть большевиков держалась исключительно на насилии, высокомерно не уважают, не ценят и не понимают свой народ, который есть такая сила, которую никакое насилие не способно удержать в ярме рабства). Но став общенародным, большевизм стал - национал-большевизмом. Завоевав государство, большевизм стал национал-большевизмом. Ленин, в 1918 году бросающий лозунг «Социалистическое Отечество в опасности!», был национал-большевиком. Сталин, провозгласивший курс на «построение социализма в отдельно взятой стране», был национал-большевиком. Сама логика власти, подразумевающей не столько привилегии, сколько ответственность, превратила большевиков из вчерашних отрицателей и разрушителей государства в созидателей и собирателей большого пространства - Империи. Впрочем, обо всём этом вы можете прочитать в фундаментальном труде М. Агурского «Идеология национал-большевизма».
Общепринято, что «империя» не входит в категорию левых понятий. И именно здесь национал-большевизм выходит за рамки - и без того весьма условные - левого течения. В этом контексте весьма интересно замечание Дмитрия Дубровского, научного сотрудника СПБГУ и Этнографического музея, который, выступая экспертом по делу «интеллигент-экстремистской ОПГ» (оно же дело 12-ти), уточнил национал-большевизм как «имперский большевизм». И к этой теме я надеюсь ещё вернуться.
Пока же остановимся на том, что национал-большевизм - по своему происхождению левая идеология, имеющая свои корни, историю и обоснование. В следующей статье я постараюсь показать сходства и различия между национал-большевизмом и такими левыми движениями как марксизм и анархизм и тем самым выявить возможные точки соприкосновения.
(буду признателен за вопросы, замечания и критику)